Сила слабого света. Чему могут научить «Люди в темные времена» Ханны Арендт
Автор: Юрий Сапрыкин
06.09.2024
В издательстве Ad Marginem вышло переиздание сборника эссе Ханны Арендт — одного из самых влиятельных политических философов XX века. Это портреты писателей и мыслителей, переживших исторические катастрофы прошлого столетия: для Арендт в этих обстоятельствах важно прежде всего, как они сохранили способность писать и мыслить.
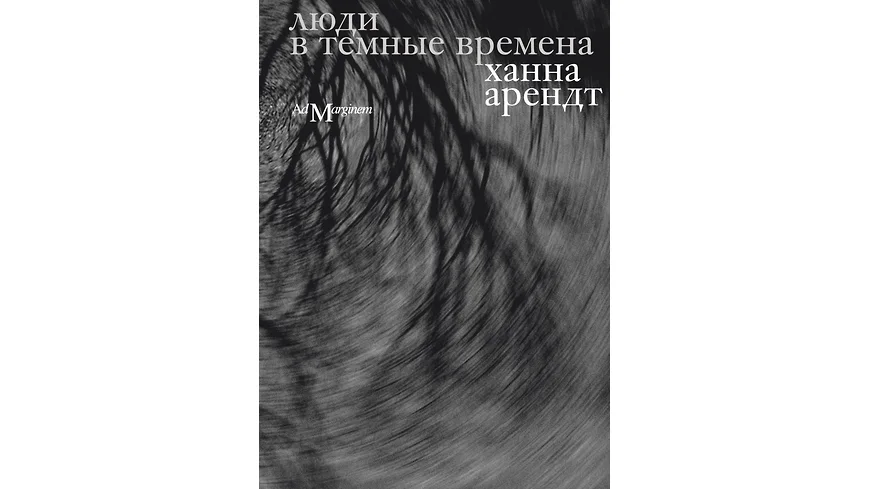
Фото: Ad Marginem
Название книги как бы дает надежду на то, что в ней можно будет найти исторические аналогии или вдохновляющие примеры — как люди переживали «темные времена» в другие эпохи и в иных странах. Это не совсем так. Сборник эссе Ханны Арендт впервые вышел на русском в 2003 году — в блестящих переводах Григория Дашевского и Бориса Дубина; времена были другие, название воспринималось иначе, более отстраненно, и, пожалуй, эта отстраненность больше соответствовала духу книги. Большинство ее героев были задеты, а иногда и уничтожены историческими катастрофами XX века, но Арендт пишет о них с дистанции, не делая из их судеб материал для инструкций, как нам жить и что делать. Наверное, герои эссе — слишком особенные, чтобы стать таким материалом, но еще в большей степени сопротивляется этому сам ход рассуждений Арендт: его сложно приспособить к потребностям, как сейчас принято говорить, «текущей ситуации» и «сложившихся условий»; что-то важное обязательно остается за кадром.
Книга открывается программным текстом о Лессинге, одной из важных фигур немецкого Просвещения XVIII века,— к нему мы еще вернемся; остальные тексты посвящены людям, чью жизнь так или иначе определили европейские войны и революции первой половины XX века: Брехт и Беньямин, Роза Люксембург и папа Иоанн XXIII, философы Карл Ясперс и Герман Брох. Люди, так или иначе пережившие крушение европейского рационализма и гуманизма, начинавшие жизнь в прочном теплом доме — и оказавшиеся на холодном ветру. Арендт пишет в предисловии о «неверном, мерцающем и часто слабом свете, который некоторые люди, в своей жизни и своих трудах, зажигают почти при любых обстоятельствах» — это общий знаменатель, который она находит для своих героев; осталось понять, что значит этот свет.
Читатель, помнящий Арендт прежде всего по «Банальности зла» и «Истокам тоталитаризма», мог бы ожидать, что речь пойдет о противостоянии государственному насилию, но именно в этой книге для Арендт важно другое. Где-то ее мысль граничит с теологическим дискурсом: она с особой симпатией пишет о людях, ищущих в «темные времена» пути к всеобщему спасению, о будущем папе Иоанне XXIII, посвятившем жизнь подражанию Христу, или и о Германе Брохе, обдумывавшем, как остановить время, получив одномоментно все знание во Вселенной. Почти всегда ее мысль озабочена проблемами социального неравенства: едва ли не главная добродетель, которую видит Арендт в своих героях — и которая перевешивает остальные их несовершенства,— это сочувствие к обездоленным, гонимым, тем, кто оказался на обочине. Она, однако, с подозрением относится к любым сильным неконтролируемым чувствам, включая сострадание: Арендт держится здесь той же линии, что была обозначена в ее книге «О революции»,— сочувствие к угнетенным может привести к еще большему хаосу и злу, если остается лишь жаждой (принципиально неутолимой) отомстить всем плохим и помочь всем хорошим — и не превращается в рациональное видение нового социума, построенного на новых принципах.
Ее мысль, в конце концов, бережно относится к самому движению мысли — герои этой книги важны для нее не только своим нравственным обликом, но тем, что продолжают находить новые слова и новые уровни понимания — в любые времена. Не останавливаются на какой-либо утешительной догме, которая позволяет занять комфортную позицию среди хаоса. Даже то или иное окончательное суждение, к которому приходит человечество (или какая-то его часть), не должно, да и не может останавливать движение мысли: «величие Лессинга,— пишет Арендт,— не только в понимании, что внутри человеческого мира не может быть единственной истины, но и в его радости оттого, что она не существует и что, следовательно, бесконечный разговор между людьми не прекратится, пока вообще есть люди». Покончивший с собой Беньямин оправдан хотя бы тем, что до последнего продолжал собирать «обломки мысли», словесные кристаллы, проявляющие сущность мира. Совершивший революцию в театре Брехт терпит поражение хотя бы потому, что предает в финале жизни свой поэтический дар, пытаясь воспеть тирана.
Впрочем, с категориями оправдания и осуждения применительно к рассуждениям Арендт надо быть осторожнее: ее термин «банальность зла» и так слишком часто используется, чтобы возвысить говорящего и отделить его от погрязшей во зле «темной массы». В этой книге Арендт точно не пытается выносить никаких приговоров: то, что она проделывает со своими героями,— это работа понимания, показывающая, из каких надежд, предрассудков и общих мест эпохи вырастает каждая отдельная судьба (именно поэтому не работают исторические аналогии: биографии этих людей невозможно натянуть на себя как спасательный жилет, они выросли в другом мире и видят мир по-другому).
Эта работа необходима — хотя, по мысли Арендт, заведомо обречена на неполноту. Она неоднократно подчеркивает: человек не сводится к набору своих слов и дел, за ними стоит какая-то невыразимая сложность. «Уровень, интенсивность, глубина, страстность самого существования» — которые, может быть, важнее, чем сумма поступков или полный корпус сочинений. «Величайшая привилегия каждого человека — не только после всякого труда и достижения оставаться все еще не истощенным, совершенно неистощимым источником дальнейших достижений, но в самой своей сущности стоять вне их, оставаться ими не затронутым и не ограниченным». Возвращаясь к вынесению приговоров: человека судят за то, что он сделал, но прощают за то, каков он есть; «мы всегда прощаем кого-то, а не что-то, именно поэтому люди полагают, что только любовь может прощать».
Важная поправка: эта ни-к-чему-не-сводимая человеческая сущность — не какая-то непостижимая вещь в себе, она не парит в некоем непроницаемом духовном вакууме: и эта человеческая глубина, и ее поверхностные проявления, и слова, и поступки, и отношения — все это погружено в мир. «Мир» в арендтовском смысле — то, что находится между людьми, пространство, где они сосуществуют и взаимодействуют, если совсем просто — публичная сфера. У этой сферы есть свои добродетели и опасности. Первейшее ее достоинство — в самой возможности свободного разговора, где сталкиваются разные идеи и ни одна не подавляет и не уничтожает другую. Одна из неочевидных опасностей — в сознании общей правоты, которое переживает сообщество гонимых и отверженных, в этом проявляется такая необходимая на холодном ветру человеческая теплота, но пропадает дистанция, без которой все свойственные людям различия слипаются в один неразлипающийся комок. Собственно, «темные времена» — это время, когда человеческий «мир» в таком понимании становится невозможен, когда человек не может проявить и объяснить себя для других, когда он вынужденно уходит в тень. Этому опыту и посвящена одна из частей доклада о Лессинге — единственное место в книге, где Арендт говорит о себе и о том, что было пережито ею в 1930-е.
Уйти из публичного пространства во внутреннюю жизнь, «в невидимость мысли и чувства». Игнорировать реальный мир, полностью уйдя в воображаемый, каким он должен быть или был когда-то. С осторожностью, но все же выходить в мир, надеясь поддержать связь с невидимыми собеседниками. Арендт говорит об этих стратегиях без осуждения — тем более, на первых же страницах она предупреждает: все это не ново, все это неоднократно было в истории, публичную сферу разрушает не только давление сверху — но и кризис доверия, и лукавые речи политиков, и повторение полинявших от старости трюизмов (наверное, в эпоху соцсетей мы могли бы расширить этот список).
Бывают времена, когда и уход в тень бывает оправдан, но при одном условии: ты должен все время держать перед глазами то, от чего приходится убегать. Не прятать это и не заметать под ковер. Даже уйдя из мира, человек все равно занимает в мире место — и видит, в каком положении здесь и сейчас оказались другие; это нельзя игнорировать. Можно молчать или высказываться, но невозможно сказать еврею, которого вот-вот отправят в концлагерь: «главное, что все мы люди» или что «искусство должно быть выше этого»; не эти соображения в такой ситуации первичны. Как пишет Арендт в финале эссе о Германе Брохе, среди прочих этических и логических заключений, существует неслагаемое человеческое обязательство — не просто хранить свою человечность, не только размышлять о том, в чем она проявляется, но прежде всего помочь тем, кто в нужде.
Поделиться:Рекомендуем:
21.11.2024 | Гулаг прямо здесь. Райта Ниедра (Шуста). Часть первая: «Нас старались ликвидировать»
19.11.2024 | Арнаутова (Шадрина) Е.А.: «Родного отца не стала отцом называть» | фильм #403 МОЙ ГУЛАГ
19.11.2024 | Шаламоведение в 2023 году: Обзор монографий
•Карта мемориалов жертвам политических репрессий в Прикамье
•«Вместе!»
•История строительства Камского целлюлозно-бумажного комбината и г. Краснокамска в 1930-е гг.
КНИГА ПАМЯТИ | Власть скрывала правду
КНИГА ПАМЯТИ | Там были разные люди
КНИГА ПАМЯТИ | Главная страница, О проекте
blog comments powered by Disqus

