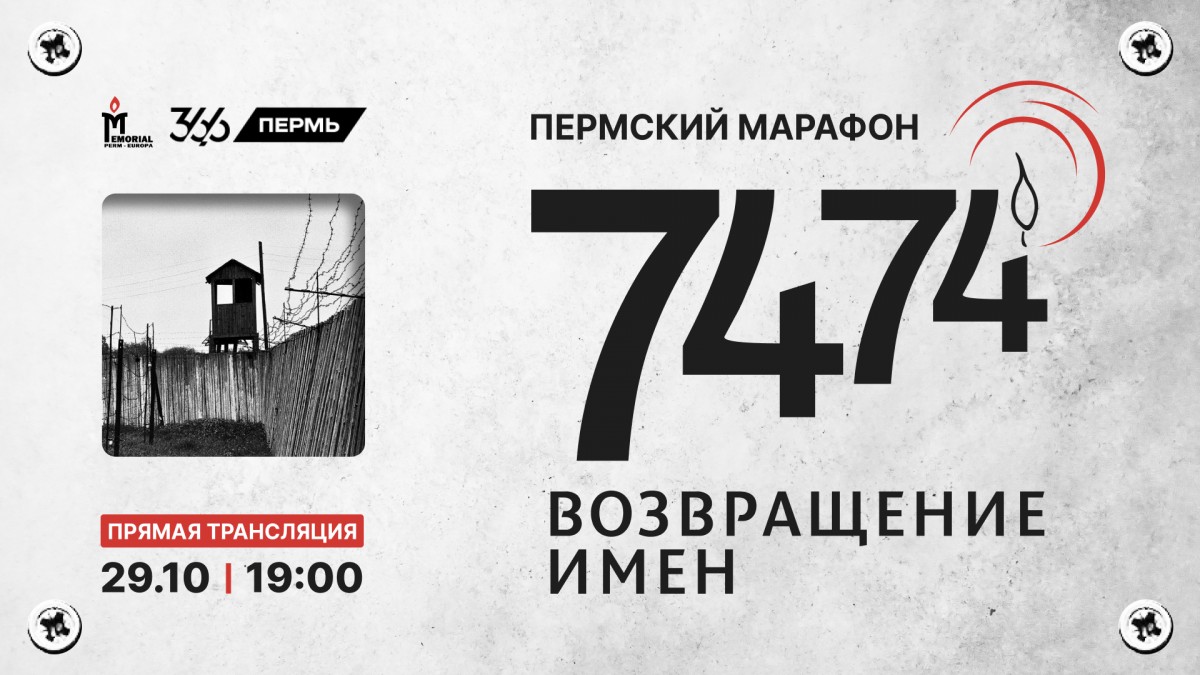Образ лагерного мира в «Колымских» циклах В.Т. Шаламова
03.06.2024

В современном шаламоведении a priori принимается тот факт, что «Колымские рассказы» являлись для их создателя способом «сохранить живую душу»[1]. Однако зачастую эта жизнесозидающая цель наполняется только эмоционально-биографическим смыслом. В действительности, и выбор Шаламовым «новеллы» как жанра, так как «новелла избирает аномальный фрагмент бытия и на его основе создает общую схему состояния мира и человека»[2], и цикла как способа выстраивания, складывания «осколков», — все это сознательный художественный выбор писателя. Это, говоря словами Хайдеггера, наиболее оптимальный творческий инструмент для «выхода... из несуществования к присутствию»[3]: присутствию как возвращению автора — «участника драмы жизни» — в уже художественный мир, созданный в процессе анамнесиса, и — как соприсутствию читателя.
Мы обратимся к двум циклам — «Колымские рассказы» и «Артист лопаты» — и попытаемся показать, что художественная логика Шаламова складывается из целого ряда «неслучайностей»: от неслучайного выбора названия цикла, расположения новелл — до неслучайного характера мотивных мостов, эмоционально-смысловых интенций, вносящих различия в содержательное наполнение каждого цикла в целом.
Согласно энциклопедическому и словарному определениям, «литературный (уточним — прозаический) цикл» — это «группа произведений, сознательно объединенных автором по жанровому, тематическому, идейному принципу или общностью персонажей»[4], «рассказчиком, исторической эпохой»[5]. В понимании Л. Ляпиной «цикл — тип эстетического целого, представляющего собой ряд самостоятельных произведений, принадлежащих одному виду искусства, созданных одним автором и скомпонованных им в определенную последовательность»[6]. «К более активным циклообразующим факторам» Н. Старыгина относит «единство проблематики, общность сюжетных конфликтов и коллизий, образно-стилистического решения, единый образ автора»[7].
Отличительной чертой первого цикла «Колымские рассказы» является его вводный характер. В цикле формируется парадигма лагерного существования: фокус изображения направлен не в психологическую глубину, а вширь - на воссоздание панорамы ГУЛАГа в его «материальности» и специфику жизни в условиях этой материальности человека. Не случаен и общий характер названия цикла, являющегося единым для всей «колымской» прозы.
Закономерно, что в первом цикле мы видим, но практически не слышим голоса автобиографического героя. Герой здесь — вынужденный наблюдатель либо немой экскурсовод по зданию «Архипелага», центрифуга которого забрасывает его на различные ярусы.
Панорамность цикла ярко отражается в его художественной архитектонике.
«Колымские рассказы» открываются новеллой «По снегу» (1956). Е. Волкова, первоначально называя «По снегу» «крохотной новеллой», считает это произведение «скорее стихотворением в прозе»[8]. Как и в большинстве шаламовских новелл, «стихотворность» находится здесь в диалектическом взаимодействии с очерковостью, а диалектичность обусловлена новеллистической структурой. Если расширить дефиницию В. Кожинова, то данное произведение можно назвать новеллистическим «этюдом с натуры»[9]. Более того, при внешней миниатюрности новелла «По снегу» — глубоко философское произведение, имеющее концептуальное значение для «Колымских рассказов» в общем и для структурной организации цикла произведений в частности.
«По снегу» — первый кадр «колымской» реальности и в географическом, и в сюжетном, и в психологическом, и в философском смыслах: автор вводит читателя в будущий «лагерный» мир вместе с его героями, которые прокладывают снежную целину: «Человек сам намечает себе ориентиры в бескрайности снежной… ведет свое тело по снегу так, как рулевой ведет лодку по реке с мыса на мыс... Из идущих по следу каждый, даже самый маленький, самый слабый, должен ступить на кусочек снежной целины, а не в чужой след. А на тракторах и лошадях ездят не писатели, ачитатели»[10].
Как можно сформулировать те смысловые импульсы, которые вытекают из «По снегу»? Во-первых, это относящийся к «колымской» прозе в целом императив о бытийственной внеположенности читателя по отношению к писателю: «Собственная кровь, собственная судьба — вот требование сегодняшней литературы... Писатель — не зритель, а участник драмы жизни»[11]. Применительно к художественному полотну произведения добавим: писатель — один из тех, кто протаптывает снежную целину, показывая дорогу в неизведанный мир, дорогу, по которой впоследствии «едет» созерцающий читатель.
Второй импульс направлен непосредственно вглубь цикла: мы видим, как новеллистическая структура сводит внешне «пейзажную» иллюстрацию к параллели «человек (человек-писатель) — лагерная Система», где Система — первичное для него инобытие: в мифологизованно-абсурдном лагерном мире первобытия (символ которого — снежная целина) человек тотально одинок, он может спрятаться за чужой спиной только временно, так как рано или поздно наступит период длительной борьбы в одиночестве. Поэтому утверждение того, что выживание на этом краю земли — дело сугубо личное, развертывается в произведениях цикла как дискретные эпизоды экзистенции человека на этапах целины ГУЛАГа с различными исходами.
Причиной отрицательного исхода может быть невыносимость физических условий на «целине», нарушение ее законов и морально-психологическая подавленность ее атмосферой. Поэтому каждая новелла в той или иной степени варьирует эту «тему жизни в соседстве со смертью» (|, 29), показывает законы такой жизни. Напарник автобиографического героя Гаркунов в «На представку» становится жертвой внутрилагерных законов «выгнутого зеркала подземного мира» — блатных; в наиболее знаковой для развития центростремительного образа снежной целины новелле «Одиночный замер» Дугаев оказывается физически неспособным пройти одиночный участок и приговаривается Системой к смерти; психически и мировоззренчески «ломается» инженер Розовский в «Дожде»; платит жизнью за нарушения территориальных, «целинных» законов пенитенциарного мира Рыбаков в «Ягодах»; дорога одиночного физического выживания убивает поэта в «Шерри-Бренди»; вольнонаемный Серафим гибнет в колымском мире, не выдерживая безысходного одиночества. Системными методами укрощают Мерзлякова в «Шоковой терапии», заставляя идти по нужному пути.
Новеллы с положительным исходом следует понимать не только в общегуманистическом, но и в локальном, «лагерном» смысле. Так, утверждение непреходящей силы духовной правды в новелле «Тетя Поля», силы человеческого взаимопонимания в «Плотниках» находится в цикле в одном смысловом узле с новеллами, где положительный исход обусловлен случайным стечением «колымских» закономерностей, как в новелле «Заговор юристов», «Хлеб»; «лагерной интуицией» — в новелле «Сгущенное молоко» и, более того, с новеллами, где положительный исход аномален в общечеловеческом видении: удачное приобретение белья покойников в новелле «Ночью». Согласно указанию автора «Колымских рассказов» на закон «смещенных масштабов», и булка хлеба, и банка сгущенки, и белье мертвеца — с одним положительным, причем не парадоксальным знаком, обусловливаемым здесь единым именно эмпирическим, то есть физиологическим полем выживания в колымском мире.
Мы не случайно указали на то, что оппозиция новелл в цикле имеет внешний характер. Это определяется внутренней условностью положительного либо отрицательного исхода каждой новеллы: на месте погибшего Гаркунова, Дугаева, Рыбакова завтра же может оказаться автобиографический герой, а внезапное освобождение в «Заговоре юристов» завтра может смениться внезапным арестом. Вероятность получить «одиночный замер» на лагерной «целине» очень велика — данная идея, на наш взгляд, пронизывает весь цикл.
Наконец, новелла «Тифозный карантин» стягивает все «мотивные мостики» цикла в единый смысловой мост и утверждает и окончательно разрешает центральный вопрос цикла, выполняя по отношению к нему функцию регрессивного финала, являясь задержанной метафорой. Мы понимаем, что положительный либо отрицательный исход одиночных встреч человека в «лагерном» мире не зависит от человека. Этот исход тотально незакономерен и случаен в силу специфики той реальности, в которой человек функционирует: реальности всегда первичной, без человеческих следов, без формируемой веками логики человеческих связей и, более того, реальности, которая злым гением была трансформирована в искусственную адову систему. Поэтому, процитируем самого писателя, «Тифозный карантин», кончающий описание кругов ада, и машина, выбрасывающая людей на новые страдания, на новый «Этап» (этап!), — рассказ, который не может начинать книги», добавим, — как и не может его завершать новелла «По снегу», поэтически вводящая в «колымскую» прозу в целом.
Если цикл «Колымские рассказы» играл роль формирования панорамы лагерной жизни, то в цикле «Артист лопаты» мы видим уже явное усложнение циклического видения «колымской» реальности, так как в центре «Артиста лопаты» — исторический и духовный путь автобиографической личности. Но несмотря на то, что в «Артисте лопаты», в отличие от «Колымских рассказов», автобиографическое и авторское «я» выражено значительно явственнее, Шаламов не допускает разрушения художественной целостности открытым автобиографизмом и публицистичностью: голос героя, в уста которого всеведущий автор вкладывает обобщения этико-психологического, философского характера, является органическим составляющим художественного «кадра», воспроизводимого в настоящем времени.
Центральная проблема цикла, как и в цикле «Колымские рассказы», формируется в контексте первой новеллы — «Припадок». Название новеллы сразу указывает на пограничную ситуацию, в которую моментально погружает нас первая фраза: «Качнулась стена, и горло мое захлестнуло знакомой сладкой тошнотой» (I, 429). Самоконстатация припадка сменяется описанием картины его следствия — разбитого, но еще не ушедшего мира: «настойчивый голос медсестры», «халаты», «угол дома», «звездное небо»; «возникла огромная серая черепаха, глаза ее блестели равнодушно, кто-то выломал ребро черепахи, и я вполз в какую-то нору... я остался один на один с кем-то огромным, как Гулливер... я изгибался под чудовищным стеклом» (там же). Из этого ряда видений героя указанием на реальные условия происходящего является только фигура медсестры. В конце первого «кадра» это указание подтверждается первым озарением: «И только тогда, когда санитары перенесли меня на больничную койку и наступил блаженный покой одиночества, я понял, что гулливерова лупа не была кошмаром, — это были очки дежурного врача. Это обрадовало меня несказанно» (там же).
Озарение объясняет природу картины «давнопрошедшего»: «Я вытащил бревно на дорогу. Лес закачался перед моими глазами, горло захлестнула сладкая тошнота (здесь еще не «знакомая», что указывает на первичность «лагерного» опыта. — А. А.), и я очнулся в будке лебедчика — тот оттирал мне руки и лицо колючим снегом» (|, 430). Развязка становится окончательным опровержением реальности возвращения: «но вместо лебедчика руку мою держал врач... И я, поняв, что я не на Севере, обрадовался. «Где я?» — «В институте неврологии». Врач что-то спрашивал. Я отвечал с трудом. Мне хотелось быть одному. Я не боялся воспоминаний» (там же).
Развязка закономерно преобразует все содержание новеллы. Совершенно иное смысловое освещение начинает падать на образы-галлюцинации первого кадра новеллы — «архетипы», если воспользоваться определением К. Г. Юнга. Причем механизм их порождения действительно соответствует определенным положениям психоаналитики Юнга: припадок отключает сознание и активизирует бессознательную область, которая рождает мифологичные и мифологизированные образы «коллективного бессознательного». Особо обращает на себя внимание образ черепахи — наиболее характерный архетипический образ, праобраз восточного мистицизма, где, по мнению Юнга, в наибольшей степени был постигнут «мгновенный медитативный индивидуальный опыт»[12]. В восточном мистицизме черепаха — символ первоосновы мира, космического порядка, бессмертия[13], соответственно, охранительного начала. Несомненно, что залезающий в черепаху герой позволяет предполагать близость новеллистического образа именно к этому архетипическому значению и еще раз убеждает в подлинности имманентного содержания произведения.
Таким образом, «Припадок» разрушает биографическую фабулу, намечая фабулу ретроспективную, которая, как становится ясно, также разрушается именно циклической логикой развертывания содержания «Артиста лопаты».
Большинство произведений цикла закономерно повествуют о противостоянии Системе автобиографического героя, однако от него проводятся параллели к историям других «жителей» лагерного мира. Как и в предыдущем цикле, развитие проблемы носит не однонаправленный, а диалектический характер: т. е. в большинстве случаев каждая последующая новелла, «нанизанная» на единую проблему, временно снимает интенции предшествующей, которые в свою очередь могут получить продолжение далее. Так, новеллистический финал очерка «Надгробное слово» манифестирует идею сопротивления от безысходности, крайности лишений, однако уже в новелле «Почерк» мы видим нарушение законов лагерного механизма его же рычагом — следователем. В «Артисте лопаты» получает развитие тема особой тяжести жизни в ГУЛАГе интеллигенции, подавляемой не только извне, но и изнутри, а в «Инженере Киселеве» приводится пример того, как жизненные закономерности, врывающиеся в системный порядок, могут стать возмездием для ярых сторонников данного подавления.
Сформированная и развивавшаяся в контексте цикла «Артист лопаты» проблема противостояния человека абсурду Системы, артиста — лопате, «снимается» в последней новелле – «Поезд».
«Поезд» основан на принципе экстраполяции: экстраполяции здесь подвергаются атрибуты лагерного мира, а фоном их рассмотрения становится мир внелагерный.
Шаламов выбирает самые характерные, знаковые составляющие ГУЛАГа. На вокзале (как символе переходной реальности) главный герой сталкивается с блатарями. Спасение героя, на первый взгляд, происходит благодаря одному из китов того, арестантского мира — случаю: он узнан и положительно охарактеризован одним из воров в законе. Но «случай» в данной ситуации, несомненно, рожден естественной жизнью: этот мир чужд подземному сознанию блатарей и постепенно становится привычным для воскресающего сознания героя. Поэтому — «тьма расступилась» (|, 696) — благополучная развязка уже мира нормальных случайностей.
Всеобъемлющим символом новеллы является «поезд». Пассажиры вагона, в котором едет герой, как и он, - жители прошлого, устремившиеся в будущее. Социум лагеря представлен здесь во всем разнообразии: блатарь, молодой лейтенант, отец-бытовик и его сын без отказавшейся ехать матери, спекулянт, проститутка, — этот мини-мир, созданный из осколков лагерной цивилизации, экстраполирован здесь в условия мира естественной атмосферы. И результат данного художественного «эксперимента» во многом является парадоксальным: пассажиры вагона, подобно музейным экспонатам, оторванным от истории, утрачивают свою характерность и даже приобретают положительные черты: блатарь (представитель самого ненавистного Шаламову мира) становится спасителем, лейтенант — символ Системы -— охарактеризован как «милый», проститутка – явление зловещих «уроков любви» — «грустная», искалеченная жизнью женщина (I, 699—700).
Мы понимаем, что осколки лагерного прошлого показаны глазами человека, который уже не зависит от прошлого, чувствует эту независимость в настоящем и начинает мыслить себя в будущем, т. е. обретает нормальное мировосприятие: «вот это все; ..и спекулянт, и грустная проститутка, и двухлетний грязный ребенок, счастливо кричащий: «Папа! Папа!» — ...запомнилось мне как первое счастье, непрерывное счастье воли» (|, 701). Герой (будущий писатель) уже поклялся, что не позволит своей «памяти забыть все, что видел» (|, 694) на Колыме, но он счастлив, потому что осознал свою духовную свободу, ощутил в себе внутреннюю силу жизни. К нему возвращается нормальная, не лагерная память, а «почти семнадцатилетнее прошлое» получает осознанную и исчерпывающую характеристику: «Остановился вагон. Родное лицо жены...- так же, как и раньше, когда я возвращался из многочисленных своих поездок... А самое главное - я возвращался не из командировки. Я возвращался из ада» (|, 701).
К какому выводу подводит нас предпринятый анализ? Циклические и новеллистические принципы позволили Шаламову опосредовать колымский и собственно автобиографический материал на сложном художественно-философском уровне.
Вопреки заложенному в «материал» требованию подчинения произведений хронологической последовательности, Шаламов циклически разбил историческую и биографическую структурную логику и представил лагерный мир и собственный путь в виде «мозаичной» монтажности, в «кадрах». Это позволило не только существенно расширить читательское представление о биографии одного зэка до представления о трагической эпохальности пережитого последним, но и показать опыт одного человека в контексте опыта человечества.
И преодоление документа как художественный и жизненный принцип Шаламова — это не только спасение себя, но и спасение нас — от истины. Эта истина рукотворных ужасов истории, будучи опосредованной художественным словом, может вызвать у нас в худшем случае печаль, в лучшем - катарсис, но не гибель, к которой приводит непосредственное ее созерцание.
Примечания
- 1. Данное определение принадлежит В. Шаламову и Н. И. Гаген-Торн: Шаламов В. Т. Несколько моих жизней. - М., 1996. - С. 430; Гаген-Торн Н. И. Метопа. —М., 1994. - С. 215.
- 2. Дзенс И. О. Новеплистика Ф. Кафки (к проблеме типологии жанра) : автореф. дис. ... к. ф. н. — М., 1998. - С. 12.
- 3. Цит. по: Канныкин С. В. Текст как явление культуры (пролегомены к философии текста). — Воронеж : РНЦЕФ ВГУ, 2003. - С. 62.
- 4. Сапогов В. А. Цикл // Краткая пит. энциклопедия. - М., 1975. - Т. 8. - Ст. 398-399.
- 5. Головченко А. Цикл И Словарь литературовед. терминов / ред.-сост. Л. И. Тимофеев, С. В. Тураев. - М., 1974. - С. 456.
- 6. Цит по: Кутлемина И. В. Поэтика малой прозы Л. С. Петрушевской : автореф. дис. ... к.ф.н. - Северодвинск, 2002.
- 7. Старыгина Н. Н. Цикпизация в русской литературе ХИХ в. и творчество Н. С. Лескова / Модификации художественных форм в историко-литературном процессе : сб. науч. тр. — Свердловск, 1988. — С. 61.
- 8. Волкова Е. В. Трагический парадокс Варлама Шаламова. - М., 1998. - С. 138.
- 9. Кожинов В. В. Статьи о современной литературе. - М., 1990. - С. 19.
- 10. Шаламов В. Т. Сочинения : в 2т. — Екатеринбург, 2004. - Т. 1. - С. 29. Далее ссылки на произведения Шаламова даются по этому изданию с указанием тома и страницы в тексте работы.
- 11. Шаламов В. Т. Несколько моих жизней. - М., 1996. - С. 426-429.
- 12. Юнг К. Г. Душа и миф: шесть архетипов. - Киев, 1997. - С. 157.
- 13. В индуистской мифологии, «в вишнуистских версиях мифа Вишну в виде черепахи погружается на дно молочного океана, чтобы спасти погибшие во время потопа ценности. Боги... устанавливают на черепахе гору Мандару... начинают пахать океан, из которого добывают напиток бессмертия»: Мифы народов мира : энциклопедия : в 2 т. / под ред. С. А. Токарева. — М.: Большая Рос. энциклопедия, 2003. — Т. 1. - С. 24.
Рекомендуем:
22.11.2024 | Гулаг прямо здесь. Райта Ниедра (Шуста). Часть вторая: «Как машина едет, думаю, сейчас меня заберут»
21.11.2024 | Гулаг прямо здесь. Райта Ниедра (Шуста). Часть первая: «Нас старались ликвидировать»
19.11.2024 | Арнаутова (Шадрина) Е.А.: «Родного отца не стала отцом называть» | фильм #403 МОЙ ГУЛАГ
•Створ (лагпункт, лаготделение Понышского ИТЛ)
•История строительства Камского целлюлозно-бумажного комбината и г. Краснокамска в 1930-е гг.
•Из истории строительства Вишерского целлюлозно-бумажного комбината и Вишерского лагеря
КНИГА ПАМЯТИ | Власть скрывала правду
КНИГА ПАМЯТИ | Столько горя, нищеты, унижений пережито
КНИГА ПАМЯТИ | Главная страница, О проекте
blog comments powered by Disqus